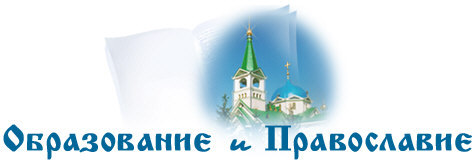|
У «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТИ»
|
«Пусть я почти
сломлен. Но почти – это ведь не
конец...»
Из воспоминаний Теодора
Адамовича Шумовского.
Ряды
объемлет ад...
 «Каждое
слово хранит в себе тайну своего
происхождения. Она продолжает
оставаться тайной, пока мы не
любопытны, пока пользуемся
словами по привычке, переданной
нам старшим поколением, не
вглядываясь в их собственное лицо». «Каждое
слово хранит в себе тайну своего
происхождения. Она продолжает
оставаться тайной, пока мы не
любопытны, пока пользуемся
словами по привычке, переданной
нам старшим поколением, не
вглядываясь в их собственное лицо».
Так думал я в один из
февральских дней 1938 года, шагая по
камере в ленинградском доме
предварительного заключения.
Спереди и сзади меня размеренно,
как часы, двигались другие
арестанты: одни вполголоса
переговаривались, другие, опустив
голову, предавались раздумьям – о
семье ли, оставшейся без
кормильца, о своем ли неясном
будущем. Стоял тот поздний
утренний час, когда призрачная
утеха от кружки кипятка с куском
черного хлеба уже давно растаяла,
а обеденной баланды еще не несут,
и заключенные коротают время в
хождении кругом посреди камеры,
один за другим, пара за парой. Шаг
следует за шагом, минута за
минутой. Пущены в ход часы
арестантского срока...
Я, студент последнего
курса университета, арестованный
за четыре месяца до защиты
диплома, озабоченно думал: вот мне
пришлось провести в тюрьме целых
две недели; это, в конце концов,
еще не так много: если завтра-послезавтра
выпустят, можно быстро наверстать
упущенное, написать и защитить
диплом в намеченный срок, в июне, а
осенью поступить в аспирантуру. Я
живо представлял себе радость
встреч с учителями, товарищами и
древними арабскими рукописями. Но
освобождение не приходило.
Мы, арестанты,
находимся на бывшей ул. Шпалерной
в камере № 23 ленинградского дома
предварительного заключения,
сокращенно ДПЗ. Три буквы остряки
за решеткой растолковывают по-своему:
«дом пролетарской закалки», «домой
пойти забудь». Невдалеке от нашей
«внутренней тюрьмы» квартал
замыкает старинная церковь Всех
Скорбящих Радость. На месте ее
когда-то стоял деревянный дворец
Натальи Алексеевны, любимой
сестры Петра I, но напротив
двенадцатью окнами выходили на
Первую линию покои злочастного
царевича Алексея, умерщвленного
отцом, а дальше по той же стороне
возвышались палаты казненного
тогда же в новорожденном
Петербурге адмирала Кикина. А
незадолго перед моим арестом
электромонтер, пришедший чинить
проводку, рассказывал: «Иду по
Шпалерке мимо НКВД и вдруг вижу –
оттуда, из окна верхнего этажа,
выбросился человек. Он умирал на
моих глазах в луже крови на
тротуаре».
А старинные кованые
ворота распахиваются и смыкаются,
вбирая в тюремный дом новых и
новых узников. Да, недаром
возникло на малоприметном старом
углу название Всех Скорбящих
Радость...
Память сохранила
мельчайшие подробности ареста. В
три часа ночи с 10 на 11 февраля 1938
года раздался стук в дверь
комнаты № 75 общежития на
Петроградской стороне. Вспыхнул
свет, вошли двое в шинелях,
спросили паспорт.
– Одевайтесь, поедете с нами.
Рядом с покидаемой
койкой на столе помещались мои
книги из университетской
библиотеки, книги, приобретенные
в букинистических лавках, бумаги,
рукописи. Чтобы проверить весь
этот скарб увозимого студента,
охранникам понадобились четыре
часа. Составленную мной по-арабски
цветную карту средневекового
мусульманского государства взяли
с собой – подозрительная
самоделка, к ней присоединили
письма покойной матери. В семь
часов утра черная «маруся»
помчала меня в стражу мимо
Петропавловской крепости, через
Неву, мимо Летнего сада. Тяжелые
ворота раскрылись... Вспомнилась
терцина Данте:
Пройдя меня, вступают
в скорбный град,
Где лоно полнят вечные печали,
Где павших душ ряды объемлет ад...
…Потрясенный всем
пережитым в течение бессонной
ночи, я свалился на каменный пол
сборной камеры и забылся тяжелым
сном. Потом почувствовал, что кто-то
ко мне прикоснулся и зовет по
имени. А, это Ника Ерехович,
студент-отличник нашей кафедры
семитохамитских языков и
литератур, только не арабист, как
я, а египтолог. Ника – большой
книжник и весьма искусно рисует
пиктограммы, еще школьником
упросил крупных наших
востоковедов преподавать ему
древнеегипетский язык.
– Ника! И ты здесь!
– Да, меня взяли
сегодня с лекции. Вызвали к
ректору, а там уже были двое в
штатском...
Почему он здесь?
Наверное, «подвело»
происхождение: отец Ники был
генералом в свите Николая II, а его
крестным отцом был сам последний
император.
...Загремел замок,
решетчатая дверь в решетчатой
стене приоткрылась, впуская нас в
просторное, полное людей
обиталище. Десятки заросших лиц
обращены к двери, десятки
блестящих и потухших глаз
осматривают вошедших.
– Новички, сюда! Какие новости
на воле?
– Есть ли еще советская власть?
– Где же она, где?
15 февраля вечером
черный занавес, навешенный на
решетчатую стену камеры со
стороны коридора, всколыхнулся,
прозвучал голос охранника:
– Кто на «шэ»?
Так, по первой букве,
тюремная охрана вызывает
арестанта. Произносить полную
фамилию нельзя – вдруг человек
содержится не в этой камере, а
ведь узникам запрещено знать о
запертых в других помещениях.
– Кто на «шэ»? –
нетерпеливо повторил голос, не
получив ответа в первую секунду.
– Шиндер.
– Нет.
– Шелебяка.
– Нет.
Третьим назвался я.
– К следователю!
За столом восседал
молодой человек с
невыразительным скучающим лицом
и коротко остриженными волосами.
– Садитесь, – бросил он
мне. – Как думаете, за что вас
арестовали?
– Не знаю.
– Не знаете! Как же так?
Раз человека лишают свободы,
значит, за ним что-то есть?
…Я ушел потрясенный,
все во мне дрожало. Впервые за 25-летнюю
жизнь ко мне вплотную
приблизились мертвящие глаза
человеческой лжи – и некуда было
деться. Да нет, пусть лучше убьют
за эти придуманные преступления,
но клеветать на себя... нет,
невозможно, нельзя. В камере я
втиснулся под нары, лег среди
вповалку простертых тел. Внезапно
из-под пола раздался протяжный
стон, за ним другой, затем
послышались вопли. Сосед, старый
крестьянин, приподнялся, опершись
о пол левой рукой, правой
перекрестился:
– Опять...
– Что опять? – спросил я.
– Пытают... – голос его
дрогнул. Ужас пробежал по мне.
– Пытают?! Кого?
– Вот тебе и «кого».
Таких, как мы с тобой. Чтоб
сознавались, чтоб кляли себя,
значит...
Он рухнул на свое место,
закрыл пальцами уши. Вопли
продолжались, порой их
перекрывала яростная брань
палачей.
Филимонов продолжал
вызывать меня, требовал «признаний».
Я все еще держался, но вопли из
пыточных камер не выходили из
головы. Постепенно сочиненный
следователем протокол приобретал
стройность и завершенность.
Оказалось, что в «молодежное
крыло партии прогрессистов»
вместе со мной входили Ника (Николай)
Ерехович и студент исторического
факультета университета Лева (Лев)
Гумилев. Все-таки я еще пока
держался. И – дивно устроен
человеческий мозг! – несмотря на
остроту моего положения, на
униженное существование – или
именно поэтому? – каждый день
приходили ко мне новые мысли,
связанные с филологией. Я не мог
записать мыслей, примеров,
доводов, являвшихся мне, – иметь
карандаш и бумагу
подследственным запрещалось – и
повторял все про себя, чтобы не
забыть...
«Какая смесь наречий и
сословий!» Сейчас из сумрака
воспоминаний полувековой
давности о 23-й камере медленно,
одеваясь живым светом, выступают
навстречу мне узники: старый
большевик, поседевший в царских
тюрьмах и кавалергард, стоявший
на карауле у царских покоев;
заведующий отделом обкома партии
и церковный староста; полярник,
морской командир, актер... У
каждого свое наречие, свой язык –
профессиональный и общественный.
За двумя
вокзалами
Грузовик с наглухо
зашитым кузовом пробежал по
Арсенальной набережной,
остановился у здания № 7. Меня
высадили, ввели в высокое
кирпичное здание старой
постройки с решетками на окнах. По
узкой железной лестнице я взошел
на верхний этаж, здесь дежурный
страж открыл передо мной одну из
многочисленных камер, я вошел.
– Откуда в наши «Кресты»,
товарищ?
Вот куда теперь
довелось попасть, в «Кресты»!
Старая петербургская тюрьма за
Финляндским вокзалом, печально
знаменитая.
…Когда глаза привыкли
к полутьме, я увидел Нику
Ереховича. Он был погружен в
раздумье, столь глубокое, что не
слышал грохота ни отворяемой, ни
вновь захлопнутой двери камеры.
– Здравствуй, Ника, –
проговорил я, садясь рядом с ним
на узел со своими пожитками. Он
вздрогнул и оживился.
– Здравствуй! Ты получил
обвинительное заключение?
– Дело-то плохо: нас
будет судить военный трибунал...
Тут шумно приоткрылась
дверь и сразу столь же шумно
захлопнулась. Это впустили к нам
Леву Гумилева.
– Ну вот, все в сборе, –
сказал он, подходя. – Здорово,
братцы.
|

Историк Лев Гумилев,
спустя десятилетия
|
Завязался немолчный
разговор. Вспоминали университет,
своих учителей, друзей. Дивились
внешнему виду друг друга: у Левы и
Ники за месяцы неволи отросли усы
и окладистые бороды; у меня
растительности было меньше, но
сильно исхудало лицо, глубоко
запали глаза.
– Вот так, братцы, –
раздумчиво проговорил вдруг Лева
и вздохнул.
– Сидим и ждем, когда
нас начнут судить по ложным
протоколам.
– Тебе хорошо, –
грустно пошутил я. – Как
расписывался? Достаточно к первой
букве имени приставить первый
слог фамилии, и все будет в
порядке: «Лгу».
– Я так и делал! –
вскричал Лева Гумилев и засмеялся.
Даже удрученный Ника улыбнулся
злой игре букв. Постепенно речь
зашла о филологии, потом все мы
углубились в историю Востока.
Пошли споры, до которых Лева был
большой охотник... Тюремная ночь с
26 на 27 сентября 1938 года подходила
к концу: обессиленные спорами, мы
прикорнули друг возле друга.
* * *
Как давно это было! Но и
сейчас я вижу стены, исцарапанные
надписями. Мы трое вглядываемся в
знаки человеческой скорби, в
памятники отчаяния и мужества;
читали с Никой древние семитские
рукописи, теперь читаем новейшие
русские: «Здесь седел...» Кто-то, не
умудренный большой грамотностью,
хотел начертать «сидел», но какая
красноречивая ошибка! Здесь в
течение нескольких мгновений
седеют, отсюда часто не выходят, а
выносят. «Смотрите! – возбужденно
шепчет Лева. – Они уже осуждены!»
Эта надпись о судьбе шести
знакомых ему студентов: фамилия –
срок, фамилия – срок. Двум дали по
шесть лет «исправительно-трудового»
лагеря, двум по восемь, двум по
десять. Рядом другой рукой
надпись по-немецки: «Несмотря ни
на что!» А дальше по-итальянски –
стих Данте, легший на врата ада.
* * *
...Военный трибунал,
рассмотрев... приговорил Гумилева
к десяти годам заключения в
исправительно-трудовых лагерях;
Ерехович и я получили по восемь
лет лагерей. Всем троим
определена конфискация имущества,
скудных наших студенческих
пожитков.
Мы – осужденные,
поэтому нас привезли в
пересыльную тюрьму на
Константиноградской улице, 6. Это
за Московским вокзалом, там, где
укромнее: течет себе тихая речка
Монастырка, рядом заросли, глухие
улицы. Камеры оказались
просторными, но каждая
изобиловала населением. Люди
спали на полу, тесными рядами, на
спальных местах их владельцы
помещались и днем. Я с Никой и
Левой расположились вместе, но
ходили в соседнюю камеру, к тем
шести студентам, о судьбах
которых узнали из надписи в
застенке военного трибунала. Мы с
ними делились воспоминаниями о
следствии, трибунале, потом... «А
что, ребята? – предложил кто-то. –
Давайте читать лекции! У каждого
из нас есть что сказать по своей
части, есть свой конек, иначе для
чего учились?»
И пошло новое дело. Не
вспомнить всех докладов, но
звучат в ушах Левины выкладки о
хазарах и сообщение Ники из
недавно задуманной им книги «История
лошади на древнем Востоке». Сам я
докладывал об арабской
средневековой картографии. Много
было вопросов, и высказывались
подчас неожиданные суждения –
ведь каждый из нас узнавал для
себя новое и каждый,
истосковавшись по студенческой
скамье, спешил «тряхнуть стариной».
К этому времени относятся мои
переводы из арабской поэзии,
сделанные мной по памяти: когда-то,
на третьем курсе, мы читали эти
стихи в подлиннике:
Неужели друг уедет, здесь
подругу оставляя,
Воскрешая скорбь разлуки,
умерщвляя радость встреч?
Лону радости – Багдаду буду слать
привет всегда я
Из чужбины, где спокойным не смогу
я взор сберечь.
Не то Нике его сестра
Вриенна, не то Леве его мать Анна
Андреевна Ахматова, не то и та и
другая сообщили на свидании: 17
ноября по протесту адвокатов
Коммодова и Бурака Военная
коллегия Верховного суда СССР
отменила приговор военного
трибунала в отношении нас и
направила дело на переследствие.
Не «прекратить дело» в связи со
скандальным провалом обвинения, а
«направить на переследствие».
Мы, трое
переследственных, оказались
переведенными в другую камеру,
она узкая, полутемная – да не беда,
подумаешь! Недолго тут быть, а
тюрьма – не дворец. Ника сделал из
черного нашего хлеба шахматные
фигурки – половину их вывалял в
стенной извести, это белые, а для
черных цвет готов сам собой.
Красивые были фигурки: не обычные,
а причудливого облика. У Ники,
помимо востоковедческой
одаренности, – руки скульптора и
развитая наблюдательность,
именно это помогает ему искусно
рисовать древнеегипетские
пиктограммы... И вдруг Ника
заболел. Кажется, простудился, но
он вообще не отличался крепким
здоровьем. Увели его в тюремную
больницу.
А Леве и мне, оставшимся,
объявили: собираться на этап. «Как
это, позвольте, нам назначено
повторное следствие, проверка
дела!» – «Отставить разговоры!»
Этап – завтра, но уже
сегодня в тюрьме гул, как на
восточном базаре. Сердце учащенно
бьется. Куда повезут, что там ждет?
«Может быть, нас развезут по
разным лагерям, – говорит Лева, –
послушай и постарайся сберечь в
памяти...» Мы залезаем под нары,
подальше от суеты, Лева шепчет мне
стихи своего отца, я запоминаю:
Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры.
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры.
Когда Тимур в унылой злобе
Народы бросил к их мете,
Тебя несли в пустынях Гоби
На боевом его щите.
. . . . . . . . . .
Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.
2 декабря наш этап
двинулся. Говорили, к
Беломорканалу, Беломорско-Балтийскому
каналу имени Сталина.
«Повенец –
миру конец»
4 декабря 1938 года «столыпинский»
вагон с решетками на окнах
доставил нас в Медвежьегорск, к
самому северному краю Онежского
озера. Всех спустили в трюм баржи,
как в средние века поступали
работорговцы с невольниками,
вывозимыми из Африки. Мы с Левой
поместились в углу у продольной
балки.
– Хорошо, что Нику не
отправили, – сказал я. – В
больнице все-таки легче.
– Во-первых, это еще как
сказать, – рассудительно
возразил Лева, – а потом, знаешь,
могут его по выздоровлении так
загнать куда-то, что и следов не
сыщешь.
Кончился день, прошла
ночь. Баржа пересекала Онежское
озеро в неизвестном направлении.
Сквозь щели с палубы пробивался
студеный ветер. Тяжелые изжелта-серые
волны, которые можно было
разглядеть сквозь зарешеченные
иллюминаторы, бились о борт,
уступая место новым и новым.
7 декабря сверху
открыли дверь на палубу,
скомандовали:
– Всем выходить!
Поднялись по узкой
лесенке, огляделись. Баржа стояла
на широкой реке, у причала, за
которым простирался вдаль
высокий глухой забор из
почерневших от времени досок.
Охранник, зевая, вышел из
караульного помещения, принял у
конвоя документы, открыл ворота и
впустил нас в зону, пересчитывая
по пятеро. Барак с бревенчатыми
стенами, «слезившимися» от
разлитой в воздухе сырости, ждал
новоприбывших.
Назавтра этап,
разделенный на три бригады,
погнали к знакомому причалу на
работы. Так и пошли дни: утреннее
плавание туда, вечернее – обратно;
распиловка двуручной пилой, на
пару с Левой, лежавших стволов на
«балансы», «пробсы» и что-то там
еще. Неподалеку, путаясь в полах
еще домашнего пальто, утомленно и
равнодушно пилил 64-летний немец
Брандт. Напарник на него
покрикивал: «Давай, давай, старик,
я за тебя ишачить не буду!» Иногда
вместо «ишачить» появлялись «мантулить»
или «втыкать», но на Брандта все
это не действовало. Он пояснял: «Я
по-русски – нет».
1 января 1939 года нам
даровали «выходной»: по приказу
лагерного начальства мы со своими
пожитками расположились перед
входом в наше обиталище с улицы.
Нас окружила вооруженная стража,
возле нее с поводков злобно
рвались овчарки. Великое стояние
длилось весь день. Охранники в
тулупах и валенках, стоя у костров,
равнодушно оглядывали плохо
одетых людей. Новогодний мороз
крепчал, стыли руки, ноги, все тело.
Текли часы. Кого, чего ждали
управители лагеря? Никого и
ничего, просто заключенным надо
было напомнить о том, что они
бесправны. Лишь когда стало
смеркаться, начался «шмон» –
обыск. Охранники вытряхивали
содержимое сумок и мешков на снег
и, скользнув торопливым взором по
вещам, отрывисто роняли: «Забирай,
иди в зону!»
Шатаясь, я добрался до
барака и упал на свои нары. Меня
бил озноб, жгучая боль в голове.
Лева Гумилев помог дойти до
медпункта. Вдоль стен полутемной
прихожей, страстно желая получить
освобождение от изнурительной
работы хоть на один день, в
очереди на прием сидели узники-азербайджанцы.
Когда мы с Левой появились в
дверях, они дружно и молча
пропустили нас без очереди –
помогло то, что я разговаривал с
ними на их родном языке. Фельдшер
дала мне день передышки. И вдруг
вскоре – этап на соседний
лагпункт. Леву отправили туда в
лесоповальную бригаду.
Лагерные дни шли
однообразно: работа; беспокойный
ночной сон, всегда казавшийся
коротким; мечущийся по двору
начальник нашего заведения,
армянин, часто выкрикивавший свое
решение провинившемуся: «В КУР» –
камеру усиленного режима, то есть
карцер, – других слов от него
никто не слышал. По вечерам была
другая жизнь. Я раздобыл карандаш,
а бумага – вот она: обратная
сторона копии приговора военного
трибунала, выданной мне после
свершения правосудия. Приговор
отменили, но копия осталась.
Лампочка тускло освещает барак;
низко склонясь над
потрескивавшимся от старости
столом, я записываю то из тюремных
филологических размышлений, что
сохранила память. Первым ложится
на бумагу пришедшее ко мне раньше
других сравнение «гром» с
арабским «ра’д» в том же значении.
За ним... Еще и это... Да, чуть не
забыл, вот... Примеры всемирного
родства языков – такие, внешние,
всегда на виду, а вот эти глубоко
скрыты под напластованиями... Я
работал с радостью и ужасом, как
хорошо, что запомнились эти
сложные выкладки, но... бумага уже
кончается, ее чистое поле
сокращается, подобно шагреневой
коже. Конечно, потом можно
перевернуть лист и писать между
строками приговора. Но и та
сторона небеспредельна. Ну, пока
пиши мельче, как можно мельче, там
видно будет.
23 января вечером в
барак вошел нарядчик. Назвал мою
фамилию, объявил:
– Завтра на этап!
Занятый своими мыслями,
я вздрогнул, машинально
переспросил:
– На этап?
– Да, в Ленинград!
Значит, наконец,
переследствие. Люди вскочили с
нар, обступили, стали поздравлять:
– Вас, конечно, выпустят.
– Прошу, зайдите к моей
семье, скажите про меня. Адрес –
улица... дом... квартира... Запомните?
Вы же ученый, у вас должна быть
хорошая память.
– И к моим зайдите,
пожалуйста... Надеждинская улица,
дом...
Утром 24 января, выйдя из
барака с вещами, я сразу увидел
Гумилева.
– Здравствуй, Лева! Как, ты жив?
Прошли с конвоем по
льду реки тридцать один километр
до Пудожа. Новая зона, в бараке
встретили уголовники.
– А-а, контрики!
Ночевать лезьте под нары, других
мест нет!
Ну и ладно, не испугаешь.
Мы на тюремной баланде доживаем
год, кое-что повидали. Под нарами
на полу – вода, сырые промерзшие
стены сочатся в затхлом барачном
тепле. Нашли уголок посуше,
усталость взяла свое, уснули.
Утром обнаружилось, что, пока мы
спали, у Левы из рюкзака вытащили
ботинки, у меня, прорезав карман
брюк, унесли бумажник. В бумажнике
были рубль и бесценная, с
филологическими записями, копия
трибунальского приговора.
За зоной, разогреваясь,
рычал мотор. Нас, человек двадцать,
посадили в открытый кузов
грузовика, дали одеяла, чтобы
укрыться от мороза и ветра. Мы
двинулись на северо-запад вдоль
восточного берега Онежского
озера. Ехали целый день,
заночевали в избушке посреди поля.
Назавтра – вновь по бесконечной
белизне заснеженной дороги.
Вперед, вперед! Но вот пали
сумерки, и перед нами не Ленинград,
а большое село. Опять ночлег в
крестьянском доме. Молчаливая
хозяйка – может быть, и ее
близкого человека где-то сторожат
охранники – стелет на печи. Как
хорошо! Свистит вокруг дома
холодный ветер, а здесь –
блаженство. Но недолго, всего
несколько кратких часов, а там, в
утренней полутьме, снова лезь в
промерзлый кузов, сиди весь день,
кутайся в сползающее с плеч
старое одеяло. Но утром нас не
повели к грузовику. Разнеслась
весть о том, что по всему
северному Прионежью свирепствует
пурга, замело великие и малые
дороги. Как ни тревожила эта
новость, ощущалась и радостная
умиротворенность: усталое тело
отдыхало.
…Дороги расчищены,
солнечный свет залил землю, снег
искрится. Мы забрались в кузов,
застоявшийся грузовик рванулся,
вынесся за околицу, помчался.
Отлетали назад леса, мосты,
одинокие домики, упругий ветер
бил в лицо.
– Повенец! – крикнул
кто-то бывалый. «Повенец – миру
конец», – говорили древние
новгородцы. Предприимчивые и
выносливые, они смогли дойти
только сюда, не дальше. Их
остановили северная стужа и
приполярный мрак, безлюдье и
бездорожье. В нашем столетии от
Повенца на север, по глухим лесам
и болотам, протянулся рукотворный
водный путь. Заключенные, тысячи
бесправных, униженных людей,
усыпав своими костями нехоженые
земли, проложили Беломорско-Балтийский
канал имени Сталина. Вот куда я
был приведен судьбой. Но она же
отворачивает меня сейчас от
прожорливого горла и влечет к
Ленинграду. Вперед! Скрываются
последние дома Повенца, белые
версты стремительно и покорно
ложатся под колеса. Вечной
свежестью, вечным спокойствием
пахнет в этом лесном и озерном
краю. И снова Медвежьегорск. Опять
вокзал и «столыпинский» вагон для
арестантов и стражи.
Одиночество
В конце февраля 1939 года
меня вызвали к следователю
Брукову. Он пожелал создать некую
видимость законности и потому –
за тринадцать месяцев моего
заключения это было впервые –
допросил в качестве свидетелей
восемь человек, знавших меня по
университету. С их показаниями я
был ознакомлен, все свидетели
заявили, что о моей «контрреволюционной
деятельности» им ничего не
известно. Впрочем, мне пришлось,
глотая горькое удивление,
прочитать о себе то, чего не
подозревал за двадцать шесть лет
прожитой жизни: «высокомерен», «груб»,
«жаден» и далее в этом роде. Все
это набрасывало нужную тень,
именно такими качествами должен
был обладать законченный
контрреволюционер.
И вдруг, читая одно из
показаний, я наткнулся на слово «душевнобольной».
Неужто обо мне?! Протокол допроса
свидетель написал
собственноручно, мелкий
изломанный почерк был мне хорошо
знаком. Игорь Дьяконов, друг с
первых дней первого курса,
убежавший от этой дружбы через
полгода. Развел нас мартовский
вечер 1933 года. Мы шли на собрание в
университет, я в ходе оживленного
разговора спросил Игоря:
– Тебе не кажется, что у
нас в стране появился Иосиф
Первый?
Дьяконов страшно
перепугался, хотя поблизости
никого не было. Его породистое
лицо побелело, он замахал руками:
– Забудь, навсегда
забудь эти слова! Ты их не говорил,
я их не слышал!
С тех пор он стал
избегать меня – тщательно,
изобретательно. И теперь
поднялась рука, начертала, не
дрогнув: «душевнобольной».
– Как ты мог? – спросил я его
много лет спустя.
Он пожал плечами:
– Я хотел тебя спасти...
* * *
На этот раз «Кресты»
предоставили мне настоящую
одиночку – узкую камеру. «Я
огляделся», – написал бы
создатель приключенческой
повести, но оглядываться было
незачем, все находилось на виду: в
углу, у двери, – параша, вдоль
стены – койка под серым одеялом,
наконец, против двери, под
потолком, – решетчатое окно,
крохотное, но еще и полузакрытое
снаружи «намордником Заковского».
Говорили, что начальник
ленинградского управления НКВД Л.М.Заковский
распорядился на окна камер, едва
пропускавшие свет, дополнительно
навесить с внешней стороны
непроницаемые деревянные щиты,
чтобы «враги народа» могли здесь
видеть лишь чуть заметный краешек
неба. Усердие оценили, передовой
опыт распространили, Заковского
перевели в Москву, назначили
заместителем сталинского наркома
– но потом он исчез; был слух, что
отправили его в бессрочную
командировку на тот свет, а перед
этим довелось ему любоваться на
свое изобретение уже не с улицы, а
с внутренней стороны.
Итак, одиночка. Вот
когда ничто не прерывало
последовательного хода мыслей,
вот когда, слушая звенящую тишину,
шагая от окна к двери и обратно,
можно было целиком пребывать
наедине с собой. И так и случилось,
что 9 июня, стоя у окна и задумчиво
глядя на краешек неба, я вдруг
проговорил:
– В них море и небо слились...
Это о темно-синих
глазах Иры Серебряковой,
первокурсницы русского отделения
филологического факультета.
Познакомились мы в нашем
общежитии незадолго до моего
ареста и после знакомства каждый
день искали друг друга. Высшим
блаженством было в свободные
минуты рука в руку пройти по
ближнему парку, рассказывая один
другому о своих устремлениях и о
своем прошлом. Ира была последним
человеком, кого я видел на воле:
проговорили до половины второго
ночи, расстались, а в три часа за
мной пришли. Из пересыльной
тюрьмы, как только разрешили
писать, я послал ей письмо. Успел
получить ответное – в конверте
лежали клочки исписанной Ириным
почерком бумаги; это позабавился
какой-то штатный гуманист из НКВД.
Я сложил клочки, прочитал Ирины
строки и хранил, пока их не
отобрали при очередном обыске.
Что же, скоро появится
возможность вернуться в
общежитие, прийти к ней...
– В них море и небо слились...
* * *
Мое одиночество
кончилось в июле. Однажды, под
вечер, загрохотал замок, в камеру
вошел человек среднего роста с
живыми глазами на смуглом
настороженном лице.
– Большаков, инженер, –
представился он, подавая руку.
Назавтра Большаков спросил:
– Вы знаете тюремную азбуку?
– Нет.
– Вот тебе и на! Старый
арестант и... Как же так? Ну вот,
смотрите...
Он принялся объяснять.
Каждой букве соответствует
определенное количество точек,
располагающихся по обе стороны
паузы. Два быстрых удара в
середине передачи слова означают:
«понял, давай дальше». Много
важных известий было передано
таким образом за столетие с
лишним. Мы с Большаковым тоже
воспользовались этим способом –
но из-за одной стены не ответили,
по-видимому, далеко не все из
нынешних узников знают старинную
азбуку; а за другой стеной
оказался некто Динвеж, который не
смог сообщить ничего нового: «Сижу
давно, один, что происходит вокруг
– не знаю». Тогда мы стали
перестукиваться между собой:
сидим в разных углах камеры,
стучим каждый по дну оловянной
кружки. «Говорят, что во Флоренции
к стенам домов на улицах прибиты
медные пластинки с
выгравированными на них
терцинами Данте, вы слышали об
этом?!» – «Да, и это очень
трогательный памятник
человеческой признательности». –
«Я в лекциях Тарле слышал, что...»
– «Да, но это можно понимать и в
том смысле, что Талейран...»
А время шло...
Путь на
Воркуту
9 августа я был вызван «с
вещами» и препровожден в контору
тюрьмы. Молодой канцелярист, что-то
писавший за большим столом,
поднял глаза и холодно проговорил:
– Сядьте, распишитесь,
что вам объявлено постановление.
На листе мутно
блестевшей бумаги значилось:
особое совещание при НКВД СССР
решением от 26 июля сего 1939 года
приговорило меня «за
антигосударственную агитацию и
антисоветскую деятельность» к
пяти годам лишения свободы в
исправительно-трудовых лагерях».
Кровь прихлынула к моему лицу.
Значит, напрасной была отмена
Верховным судом прежнего
приговора и ни к чему оказались
все показания свидетелей.
Мои «сопроцессники»,
проходившие по одному «делу» со
мной – Лева Гумилев и Ника
Ерехович, – тоже получили по пять
лет лагерей. Леву отправили в
Норильск; знавшая его там женщина-химик,
встретившаяся мне в Красноярском
лагере осенью 1943 года, передала
мне по памяти четверостишие
Гумилева-младшего:
Я этот город строил в дождь и
стужу,
И чтобы стал он выше местных гор,
Я сделал камнем собственную душу
И камнем выложил дорог узор.
Нику этапировали на
Колыму. Там в начале сороковых
годов он погиб – в неисчислимых
владениях главного управления
лагерей часто не выдерживали и
более сильные телом. Мне же была
назначена Воркута.
…Из Кирова путь наш
пролег на север. 22 августа вместе
с другими этапниками я уже сидел
во дворе «пересылки» в Котласе.
Отсюда меня рассчитывали
переправить в постоянное место
назначения, но где-то заело, что-то
не сработало, отправку
заключенных отложили. Мы были
размещены в брезентовых палатках,
и нас тотчас же стали выводить на
работу. Собирали бревна,
валявшиеся вокруг зоны, грузили
тюки прессованного сена и мешки с
крупой на баржи, стоявшие у берега
широко разлившейся Северной
Двины. Под заходившим солнцем,
когда рабочий день медленно
близился к концу, река пылала
нестерпимым и торжественным
блеском, потом, наступая, по ней
растекались нежная желтизна и
розовый свет вечернего неба.
В последующие дни я
сдружился с Вернером Карловичем
Форстеном. Недавно один из
наркомов Карело-Финской ССР,
теперь он был моим напарником на
распиловке бревен. Я стал учиться
у него финскому и быстро оценил
самобытную красоту этого языка.
Возле склада, где мы пилили, стоял
щит, на нем вывешивалась местная
газета. Слова о «вечной советско-германской
дружбе» и сообщение о вторжении
фашистской Германии в Польшу были
напечатаны почти рядом. «Странное
совпадение!» – подумал я.
Однажды пришлось
грузить 90-килограммовые мешки с
сахарным песком на баржу,
подошедшую от устья Вычегды.
Тяжело осевшая баржа ушла к
Архангельску, но, пройдя 160
километров, наткнулась на
непробиваемый лед – был конец
октября – и повернула обратно.
Пришлось ее разгружать, но
неимоверная тяжесть мешков,
теперь уже выносимых вверх по
трапу, облегчалась радостным
осознанием того, что, поскольку
судоходство прекратилось, путь на
Воркуту закрыт до поздней весны, а
уж там посмотрим.
Едва оглядевшись на
новом месте, в сентябре я отправил
письмо Ире Серебряковой. Поведал
ей о своих арестантских
передвижениях по стране – она
просила об этом еще в давнем,
изорванном цензурой послании.
Когда-то дойдет мое «заказное с
уведомлением» до невских далей?
Весь октябрь прошел в ожидании
ответа, но его не было.
6 ноября под вечер нас
провели через Котлас, красный от
праздничных флагов, в знакомую «пересылку».
Снова брезентовые палатки, но
теперь посреди каждой дымится
трудно растапливаемая печурка.
Вокруг жалкого огонечка густо
сидят люди в лагерных шапках-ушанках,
телогрейках «второго срока», в
заплатанных ватных брюках, в
грубой холодной обуви.
13 ноября в палатку
внезапно принесли почту. Вести с
воли, пусть и запоздалые, особенно
долгожданны в мире узников и по
особенному их волнуют.
Арабская поговорка
гласит: «Свободный – раб, когда он
жаждет: раб – свободен, когда он
доволен».
Итак, пришла почта.
Одной из первых назвали мою
фамилию. Я залез на свои верхние
нары, огрубевшие пальцы стали
бережно извлекать из вскрытых
цензурой конвертов листок за
листом. И уже не было ни
промерзлой палатки, ни дымящейся
печки, ни самих нар... Только милый,
округлый, чуть размашистый, чуть
неровный почерк Иры. И – чуть
слышный, почти угадываемый запах
розовой юности, нежной свежести
этого чистого полевого цветка.
27 ноября слухи, изо дня
в день занимающие лагерников,
подтвердились. Из палатки в
палатку стал переходить нарядчик:
– Этап! Всем приготовиться!
Утренний свет
Стучали колеса на
рельсовых стыках, качались вагоны,
мчался по холодным и гулким
пространствам наглухо закрытый
поезд. Заключенные постепенно
привыкали к жизни на колесах.
Глаза освоились с единственным
зарешеченным окошечком под
крышей вагона.
Вагоны остановились,
двери раскрылись, охрана
скомандовала:
– Выходи строиться!
После многих дней пути
в клетке все рады увидеть над
головой небо, вдохнуть свежего
воздуха не через дыру отхожего
места. Спрыгнули на заснеженную
землю, построились, начальник
конвоя встал впереди, автоматчики
с овчарками по бокам и сзади
арестантских пятерок.
– Вперед!
Кто-то дальнозоркий
прочитал на стоявшем в стороне
здании вокзала: «Омск».
– Ребята, Омск! Николай,
Воркутой и за тридевять земель
тут не пахнет, насколько я понимаю
в географии.
– Братцы, куда же нас
везут? Двенадцатые сутки едем.
Тринадцатые...
Четырнадцатые...
Пятнадцатые. Большая
станция. Один из моих попутчиков
подтянулся с верхних нар к окошку.
Увидев проходившую женщину,
крикнул:
– Где стоим?
– В Красноярске,
родимый, в Красноярске, – ответил
дребезжащий старушечий голос.
И сразу же послышался окрик
часового:
– Эй, тетка, отойди от вагонов!
Сама туда захотела?
И снова катятся колеса, стучат
колеса.
15 декабря 1939 года я
ступил на землю Красноярского
края, где мне предстояло провести
около семи лет.
По лесной дороге,
сопровождаемые окриками конвоя,
мы добрались до широких ворот
какой-то просторной зоны,
построенной в глухой тайге. От
ворот влево и вправо тянулся
высокий забор из полукруглых
досок – горбыля с колючей
проволокой поверху и с
контрольной полосой внизу.
Старожилы объявили, что мы
находимся на 6-м лагпункте того же
Нижне-Пойменского отделения
Краслага.
* * *
– Внимание, бригада!
Переходите в распоряжение конвоя.
В пути не растягиваться, не
нагибаться, с земли ничего не
поднимать, не разговаривать. Шаг
вправо, шаг влево...
...Давно идем.
– Бригадир! Пошли пару
человек людей ставить запретки!
Так они, охранники,
выражаются: «люди» – название
товара, «человек» – единица
измерения. Это примерно то же, что
сказать: «Пошли-ка, пастух, на
выгон пару голов скота». Что
касается запреток, то, поскольку
веление конвоира – закон,
бригадир немедленно посылает
кого-то пошустрее втыкать в снег
вокруг участка палки с дощечками,
на которых написано: «запретная
зона». Ступишь за дощечку –
выстрел, смерть.
– Давай, приступай!
Нам предстояло
штабелевать бревна делового леса.
За целый день тяжелого труда
удавалось выполнить норму на 60-70
процентов, а то и на 51 – за меньшее
полагались штрафной паек, то есть
триста граммов хлеба на сутки, и
карцер. Этого нужно было избежать,
я работал в жарком поту. Дошло до
того, что однажды, несмотря на
мороз, мне пришлось сбросить
бушлат и катать бревна в одной
телогрейке. Но в это время на
оставленный бушлат упала искра
ближнего костра, и он сгорел.
После утренней поверки меня
вызвали к начальнику лагпункта
Савватееву.
– Почему не вышли на
производство?
– Сгорел бушлат, а в
телогрейке при морозе в тридцать
градусов работать нельзя, тогда
телогрейка не греет.
– По какой статье сидите?
– Пятьдесят восьмой.
– Трое суток штрафного
изолятора без вывода на работу.
Уведите.
Так я оказался в
ледяном подвале – «шизо». Там
было негде сесть, негде лечь,
суточное питание – триста
граммов хлеба и две кружки теплой
воды.
* * *
На распиловке бревен
моим напарником оказался Варнер
Карлович Форстен, в прошлом
нарком, которого я знал еще по
котласской «пересылке». Мы пилили
ствол за стволом, и одновременно я
под руководством Варнера
Карловича продолжал занятия
финским языком, начатые на
берегах Северной Двины и Вычегды.
Была поздняя весна,
когда нас привели на расчистку
глухого участка в тайге. Мои
ватные брюки не доходили до
портянок, на оголенные места
набросилась мошкара. Я расчесал
искусанную кожу, и так как у меня
был авитаминоз, ноги покрылись
гнойниками до колен. Фельдшер
назначил автогемотерапию,
помогало это мало. Прибывшая в
одном этапе со мной москвичка
Роза Львовна Зиглина, ставшая
медсестрой, переливая мою кровь
из верхних конечностей в нижние,
тревожно качала головой: «Не
остаться бы вам без ног!» Но я
верил в свое выздоровление: болей-то
почти нет, а тело молодое,
справится. Только надо... надо,
чтобы рядом постоянно был друг,
были его участие, свет его. Не от
случая к случаю, а постоянно – и
чтобы я тоже был ему всегда нужен.
Взаимное влечение двух людей
зовется простым словом: любовь.
Она есть во мне, теперь необходимо
поднять ее на новую ступень. Этого
не будет, если я хоть одной
частицей почувствую, что стану в
тягость своему другу. Разделенная
любовь помогает каждому из ее
участников жить и творить.
Так 26 мая 1940 года
родилось мое письмо Ире
Серебряковой с предложением
брака.
Три больничные недели в
августе принесли мне исцеление от
фурункулеза. Но, кроме того, в те
дни меня нашло очередное письмо
Иры. Майское мое признание,
пробиваясь через частокол
цензуры, еще не успело дойти до
нее, от строк веяло ровным
дыханием устоявшейся дружбы, не
более того. Письмо было написано в
июне, Ира, сдав зачеты, собиралась
на летний отдых в Белоруссию.
Вернется осенью, и тут –
откровение в ожидавшем ее
сибирском послании. Что дальше?
Одно дело переписываться с
товарищем по университету,
сочувствовать и даже сердцем
переживать его беду, помогать ему,
внушая мысль, что о нем помнят. И
другое дело брак, соединение на
всю жизнь. «Враг народа» до конца
своих дней останется отверженным,
общество от него отвернулось
навсегда и... его судьба
распространится на всех, кто
будет с ним связан: жену, детей... «Милый,
ты, конечно, поймешь, что я не
могла решить иначе, и простишь
меня...» И тогда – конец всей этой
переписке, всем этим напряженным
ожиданиям вестей, страхам, что
очередной глоток радости –
строки и строки – затеряется где-то
на тысячеверстных путях из
Ленинграда в Сибирь. Конец! Потому
что все окажется перегоревшим, не
о чем станет писать, нечего будет
ждать.
Из больницы меня
переправили на Комендантский
лагпункт у края поселка Нижняя
Пойма. Здесь я попал в бригаду
Дикарева, работавшую на
строительстве железнодорожной
ветки. В январе 1941 года нас
перебросили на дальний
шпалозавод, где мы стали работать
в ночную смену. Стояли жестокие
морозы – помню слова «сорок шесть
градусов», прозвучавшие в
разговоре двоих конвоиров. Тайга,
обступившая шпальный стан,
казалось, трещала и содрогалась
от стужи.
Медленно подступала
весна, когда мне принесли письмо
от Иры, долгожданное, – а может
быть, было бы лучше, если бы не
дошел до меня этот взрезанный
цензурой конверт?.. В письме было
согласие. Ирина принимала на себя
тяжкий труд быть невестой
гонимого, навсегда внесенного в
черные списки государства.
Ира, как все-таки мало я
тебя знал! Предался каким-то
сомнениям, писал за тебя строки
вежливого, оправдываемого отказа...
Как будто ты, чистая, способна
ради себя предать любовь! Для тебя
это невозможно, прости меня.
Раскаты грома
Весной 1941 года я при
совершенно неожиданных
обстоятельствах превратился из
рабочего шпалозавода в...
машинистку штаба Нижне-Пойменского
отделения лагеря. Арестантку,
работавшую на пишущей машинке,
угнали на этап, других
профессионалов не оказалось, а
тут я и вспомнил в случайном
разговоре, что когда-то имел некое
отношение к машинописи.
Воскресным вечером 22
июня заключенные «штабники»
сидели в своем бараке за большим
общим столом, занимаясь кто чем:
одни беседовали, другие, с досадой
оглядываясь на шум, пытались
читать; на краю стола двое играли
в шахматы, а за ними стояла толпа
болельщиков, напряженно
следивших за ходом сражения.
Слышались голоса: «Рокировку-то
рано делать, он ведь может...»
Вдруг из-за стола порывисто
вскочил Гольдфайн, замахал руками,
призывая к тишине, и указал на
черную тарелку радио,
прикрепленную к столбу около
стола. Все стихли и прислушались.
Внятно и оглушающе, словно гром,
прозвучало сообщение: германские
войска перешли советскую границу,
началась война.
Что теперь будет?
Невозможно, чтобы нашу огромную
страну победили – это не
укладывается в сознание. Но ее
сопротивляемость осложнена
уничтожением образованных
военачальников, а с другой
стороны – созданием громадной
армии «врагов народа», которую
надо по-прежнему кормить и
сторожить, которой приходится
бояться – вместо того, чтобы
опираться на эти тьмы невиновных
людей в тяжкий час. Может быть, нас
уничтожат? Но кто же тогда будет
работать в тылу? Одни женщины?
Федор Михайлович
Лохмотов, когда-то красногвардеец
в Царицыне, глядя на карту
передвижения армий (сведения об
этом поставляли сводки
Совинформбюро), хватался руками
за свою седую голову и сокрушенно
повторял: «Что это! Что это! Как
можно допускать такое
отступление! Смотри, где уже немцы,
это ужас, что же мы-то!»
От Иры пришло письмо
уже с печаткой военной цензуры, но
еще довоенное, писанное всего за
несколько дней до грома. Такой
безмятежностью веяло от строк,
полных покоя и надежд,
предвкушения летнего отдыха! Она
радовалась и цветам, и музыке,
лившейся из чьего-то окна,
раскрытого навстречу лету, ее
восхищали изваяния львов на мосту
и задумчивый Крюков канал. И она
ждала меня, отсчитывая оставшиеся
месяцы тюремного срока.
Осенью я получил еще
одно Ирино письмо. Учась уже на
пятом, последнем курсе, она
одновременно работала медсестрой
в госпитале для раненых бойцов.
Трудно ей приходилось, но духом не
падала: «Беру с тебя пример, твоя-то
жизнь потруднее моей, и давно, а ты
все идешь, не садишься отдыхать на
придорожный камень... Да, похудела,
побледнела, круги под глазами, что
сделаешь – воюем... Но все беды
пройдут, все будет хорошо у тебя и
у меня. У нас».
1 и 2 июня 1942 года мне
принесли, одно за другим, два
письма от Ольги Александровны
Серебряковой. Она сообщила, что ее
дочь Ирина погибла при воздушном
обстреле госпиталя, где она
работала.
Все померкло передо
мной, мысли мешались. Впервые ушла
способность сосредоточенно
обдумывать что-либо. Я начал
курить... В условиях военного
времени к дневной работе
заключенным «штабникам» добавили
вечернюю, перепечатка
бесчисленных деловых бумаг как бы
отвлекала от мучительных дум и
воспоминаний. Во время неожиданно
предоставленного отдыха,
нежеланного, я часами неподвижно
лежал в своем углу на нарах,
рассеянно слушая барачный шум и
тупо глядя в одну точку. Год назад
в этом углу спал бухгалтер
Калабухов, потом он умер, сейчас
на его спальном ложе простерся
полутруп, некогда живший я.
А жизнь в лагере шла
своим чередом. Однажды нас
выстроили на «главной улице»
Комендантского лагпункта –
широкой деревянной дороге. И в
этот миг из подземного карцера
вывели трех истощенных,
измученных людей, еле
удерживавшихся, чтобы не упасть
от слабости. Начальник лагпункта
Козырев, оглядев собравшихся,
обратился к нам с речью:
– Лагерники! Перед вами
три бандита, которые не достойны
ходить по советской земле.
Оказалось, эти трое
пытались бежать. Я по рассказам
знал, что бывает в таких случаях:
окрестных деревень приходится
бояться – там сразу выдают
беглецов; а по тайге уже идет
погоня с овчарками, и вот где-то
обессилевший от голода и страха
узник становится ее добычей.
И это чьи-то дети. Матери, вы
слышите их боль?
А вот... Недавно
привезли на лагпункт по
спецнаряду бухгалтера. Тихий,
неразговорчивый, только и узнали,
что имеет восьмилетний срок,
который скоро должен закончиться.
И вдруг он исчез. Потом заметили,
что дверь одного из отхожих мест
при штабе постоянно закрыта.
Взломав, увидели: приезжий
бухгалтер стоит на коленях, он
затянул на себе петлю. Охранники,
вытаскивая окоченевший труп,
ожесточенно пинали его ногами и
злобно ругались.
Истекал 1942 год. В начале
следующего меня должны были
освободить из заключения с
окончанием срока. Январь 1943-го.
Остался месяц... Неделя... Четыре
дня, три... Настал день 11 февраля,
которого я ждал, шагая по камерам,
скитаясь по этапам. День, которого
ждала и не дождалась Ира, день,
годы до которого отсчитывали
другие мои близкие. 23 февраля
вызвали и предложили расписаться
под извещением: «Объявите
заключенному (мои фамилия,
инициалы), что он оставлен под
стражей до конца войны».
|

Т.А.Шумовский после
освобождения из лагеря
|
Ладно. Пусть это уже
третий раскат грома, пусть я почти
сломлен. Но почти – это ведь не
конец. Мозг еще жив. Действие
рождает противодействие – чем
больше одно, тем сильнее другое,
так должно быть. Смотри,
слепоглухонемая Елена Келлер
овладела тремя европейскими
языками – помнишь, ты мальчиком
читал об этом в старом журнале «Нива»?
Это – человек. А пасть,
превратиться в ничтожество куда
как легко.
1943 год прошел в
напряженной работе. Я восстановил
по памяти все свои
лингвистические записи – те,
которые украли у меня на раскурку
уголовники на Беломорканале, и те,
которые я спас от обыска в Котласе,
но не мог спасти от следующего
тления. И появились новые стихи и
переводы...
* * *
20 января 1944 года
дежурный охранник открыл передо
мной проходную, подозрительно
оглядел с головы до ног. Прочел и
перечитал справку об
освобождении. Потом открыл вторую
дверь – на улицу, и я вышел, крепко
держа сундучок, подаренный мне
товарищами в зоне. На дне сундучка
лежали тетради с записями. Но
впереди еще были годы испытаний...
На воле я оставался недолго, опять
был арестован и снова отправлен в
Сибирь, на станцию Тайшет.
Публикуется
впервые
Фото К.АДАМСОН и из архивов.
Газета Эском - ВЕРА
http://vera.mrezha.ru/509/8.htm
|